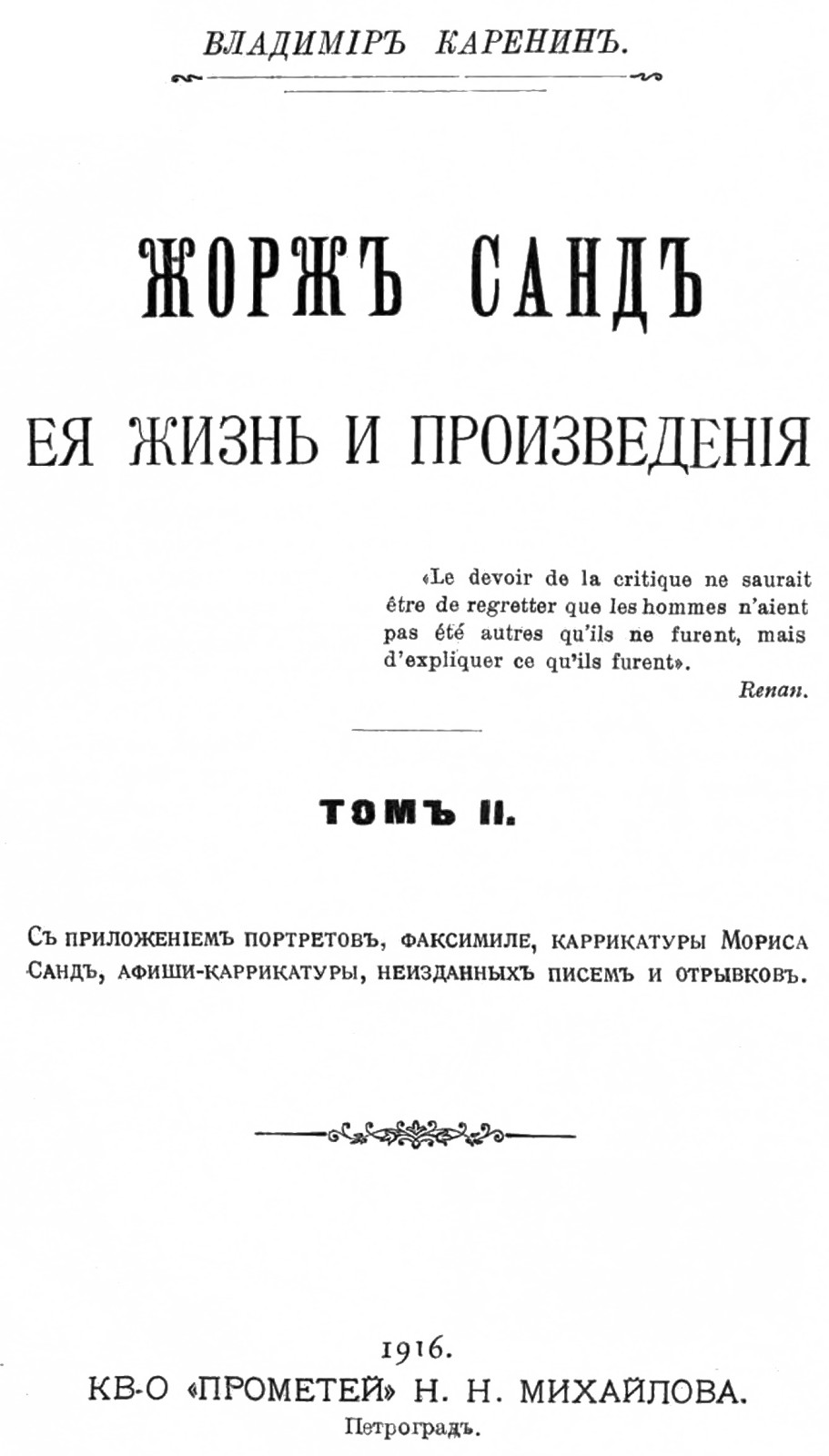Шрифт:
Закладка:
"Я начала этот роман в 1832 году, в Париже, в мансарде, где мне очень нравилось. Рукопись потерялась: мне показалось, что я случайно бросила ее в огонь, и, поскольку через три дня я уже не помнила, что хотела сделать (это не пренебрежение искусством и не легкомыслие по отношению к публике, а настоящая немощь), я решила оставить ее в покое, даже не думала начинать все сначала. Примерно через десять лет, открыв сельский магазин, я обнаружила там половину рукописного тома под названием "Полина". Я с трудом узнала свой почерк, настолько он был лучше, чем сегодняшний. Разве это не часто случалось с вами самими, когда вы восстанавливали всю непосредственность своей юности и все воспоминания о прошлом в четкости заглавной буквы и непринужденности знаков препинания? А орфографические ошибки, которые все делают и которые мы исправляем позже, когда исправляемся, разве они не всплывают иногда перед вашими глазами, как старые знакомые лица? Когда я перечитала эту рукопись, память о первом отрывке тотчас вернулась ко мне, и я без колебаний написала остальное. Не придавая никакого значения этой короткой картине провинциального духа, я не думаю, что исказила характеры, данные ситуациями; и мораль сказки, если ее вообще можно найти, заключается в том, что крайняя неловкость и крайнее страдание-ужасная среда для молодости и красоты. Немного вкуса, немного искусства, немного поэзии ни в коем случае не были бы несовместимы, даже в глубине провинции, с суровыми достоинствами посредственности; но посредственность не должна быть связана с бедствием; это ситуация, на которую ни мужчина, ни женщина, ни старость, ни молодость, ни даже зрелый возраст не могут смотреть, как на нормальное развитие провиденциальной судьбы." Жорж Санд 20 марта 1859 г.
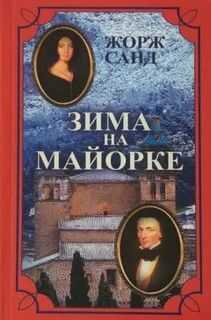
![Полина [современная орфография] - Жорж Санд](/uploads/posts/books/19708/19708.jpg)